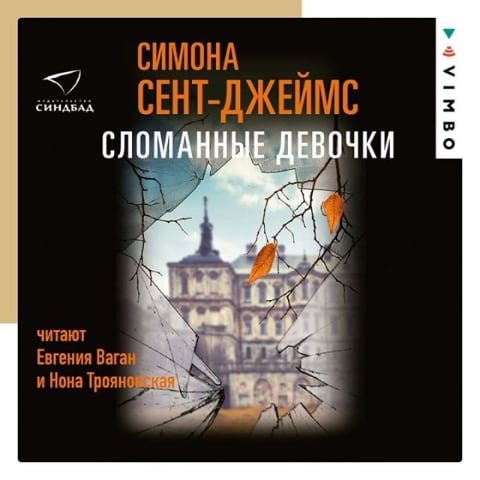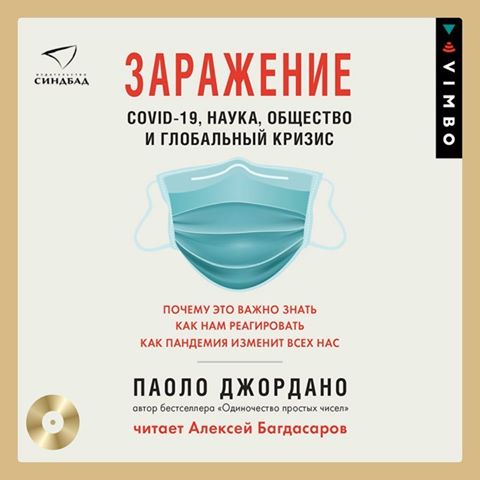Фрагмент книги «Прощание с Матёрой»
— А не могли ее сельповские с фактурой нагреть?
— Не знаю. Все могло быть. Я вижу, образование у нее небольшое.
— Какое там образование — грамотешка! С таким образованием только получку считать, а не казенные деньги. Я ей сколько раз говорил: не лезь не в свои сани. Работать как раз некому было, ее и уговорили. А потом как будто все ладно пошло.
— Товары она всегда сама получала или нет? — спросил ревизор.
— Нет. Кто поедет, с тем и заказывала.
— Тоже плохо. Так нельзя.
— Ну вот...
— А самое главное: целый год не было учета.
Они замолчали, и в наступившей тишине стало слышно, как в спальне все еще всхлипывает Мария. Где-то вырвалась из раскрытой двери на улицу песня, прогудела, как пролетающий шмель, и стихла — после нее всхлипы Марии показались громкими и булькали, как обрывающиеся в воду камни.
— Что же теперь будет-то? — спросил Кузьма, непонятно к кому обращаясь — к самому себе или к ревизору.
Ревизор покосился на ребят.
— Идите отсюда! — цыкнул на них Кузьма, и они гуськом засеменили в свою комнату.
— Я завтра еду дальше, — придвигаясь к Кузьме, негромко начал ревизор. — Мне надо будет еще в двух магазинах сделать учет. Это примерно дней на пять работы. А через пять дней... — Он замялся. — Одним словом, если вы за это время внесете деньги... Вы меня понимаете?
— Чего же не понять, — откликнулся Кузьма.
— Я же вижу: ребятишки, — сказал ревизор. — Ну, осудят ее, дадут срок...
Кузьма смотрел на него с жалкой подергивающейся улыбкой.
— Только поймите: об этом никто не должен знать. Я не имею права так делать. Я сам рискую.
— Понятно, понятно.
— Собирайте деньги, и мы постараемся это дело замять.
— Тысячу рублей, — сказал Кузьма.
— Да.
— Понятно, тысячу рублей, одну тысячу. Мы соберем. Нельзя ее судить. Я с ней много лет живу, ребятишки у нас.
Ревизор поднялся.
— Спасибо тебе, — сказал Кузьма и, кивая, пожал ревизору руку. Тот ушел. Во дворе за ним скрипнула калитка, перед окнами прозвучали и затихли шаги.
Кузьма остался один. Он пошел на кухню, сел перед не топленной со вчерашнего дня печкой и, опустив голову, сидел так долго-долго. Он ни о чем не думал — для этого уже не было сил, он застыл, и только голова его опускалась все ниже и ниже. Прошел час, второй, наступила ночь.