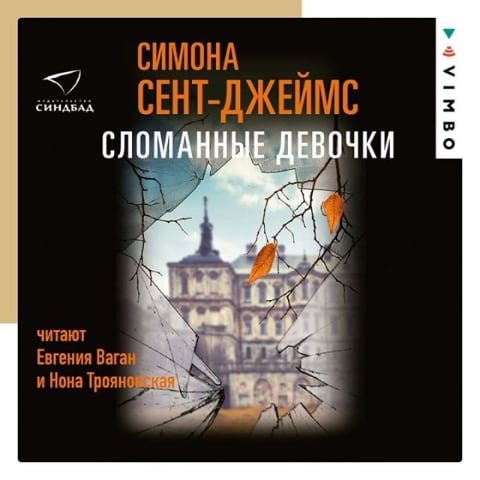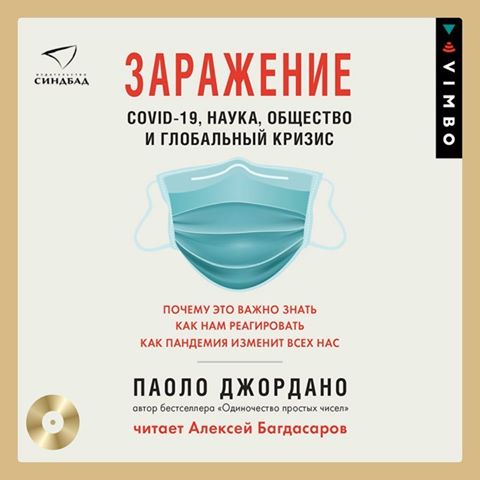Фрагмент книги «Теткины детки. Удивительная история большой, шумной семьи»
— Нюра, ты слышишь? Приехал Даня из Киева!
— Сонечка? Это я, Муся! У нас Дора из Ревды!
Хлопали двери, приходили и уходили люди.
— Едут рижане, — объявляла свекровь.
«Рио-де-Жанейро», — чудилось Татьяне.
— Завтра будет проездом Сара из Магадана! — кричала свекровь в трубку.
«Сара с Мадагаскара», — шептала Татьяна.
Сама она нигде не бывала — ни в Ревде, ни в Магадане, ни в Киеве. А уж в Рио-де-Жанейро и подавно. Названия знала из школьного курса географии и повторяла про себя с каким-то молитвенным благоговением.
Когда в клубáх морозного пара или летней томительной испарине в дверь вваливались чужие люди, в воздухе начинало пахнуть дальними странами. Люди сгружали в угол коричневые чемоданы, похожие на растрескавшийся шоколад «Алёнка», серые самострочные мешки с детсадовскими и пионерлагерными цветными надписями, вышитыми нитками мулине: «Эдик А., 3-й класс», «Соня Д., подготов. груп.». Отряхивались, осматривались, требовали немедленно горячей воды, мыла и полотенец, потом долго плескались в общей кухне под краном, и фыркали, и стонали от удовольствия, и кричали через коридор, что надо срочно разобрать чемодан, потому что домашняя колбаса с чесноком уже сутки как в дороге, а ей это вредно. И торт — чудный «Киевский» торт, безе просто шелк, а крем, вы не поверите, ни капли маргарина! — немедленно выньте и поставьте на холод, а варенье ничего, варенье переживет, что ему сделается! И входили в комнату, голые по пояс — мужчины в старых линялых галифе, женщины в черных плотных суконных юбках — вот что удивительно, даже в жару, даже в жару! — и сатиновых бюстгальтерах с большими белыми костяными пуговицами, чуть-чуть пожелтевшими от старости. И еще большее удивление это вызывало потому, что тут вам и соседка Марья Львовна, известная блюстительница нравов, и лысый Толька из угловой комнаты, известный на всю округу бабник и охальник, и полная кухня любопытных глаз, пристально следящих за каждым неловким движением, и уши, приклеенные к замочным скважинам в надежде услышать необдуманное слово, — и вот вам белые бюстгальтеры всем напоказ, и ладно только бюстгальтеры, еще и пуговицы, почему-то олицетворяющие для Татьяны мучительный стыд телесного разоблачения в присутствии чужих людей. Пуговицы она воспринимала как печать этого стыда, поставленную на самом видном месте. Но ничего не замечалось. Ни осуждающие взгляды Марьи Львовны, ни похотливая Толькина улыбочка. Шли по темному коридору, с полотенцами на плечах, встряхивая мокрыми волосами, словно после вечернего деревенского купания. И свекровь — та самая свекровь, которую Татьяна боялась до озноба, до сжатых кулачков, до побелевших костяшек пальцев, — хохотала, бросалась на шею, душила в объятиях так, как умела только она — ни ойкнуть, ни вздохнуть, — чмокала в щеку и подводила к Татьяне.