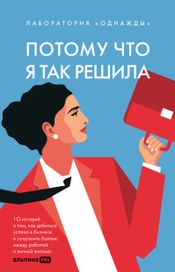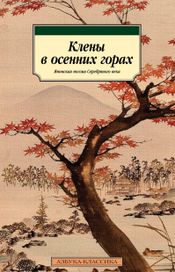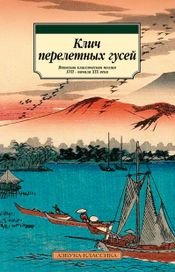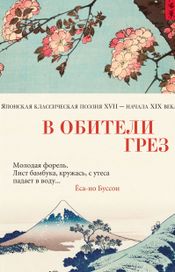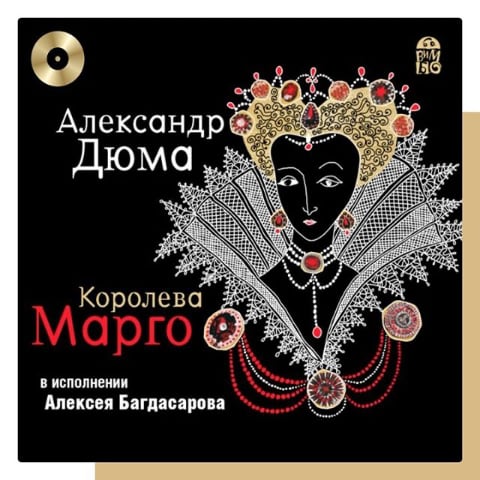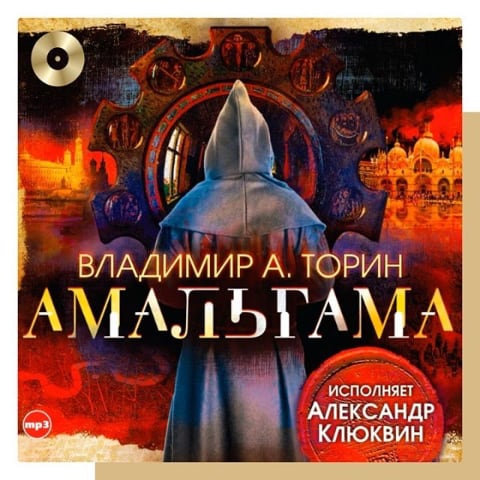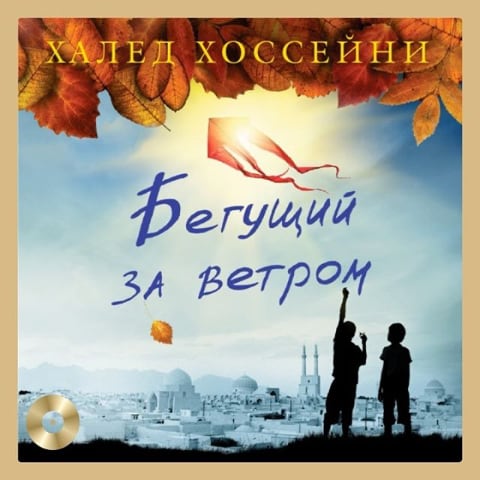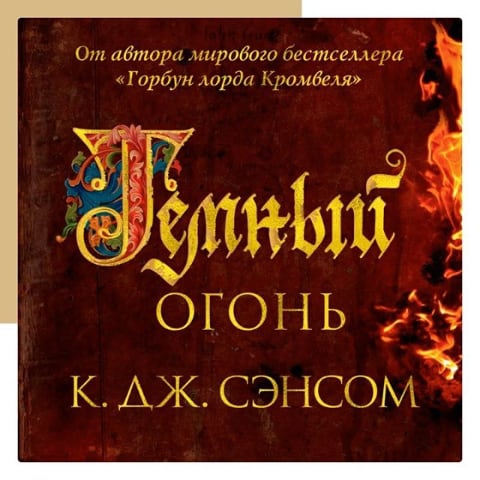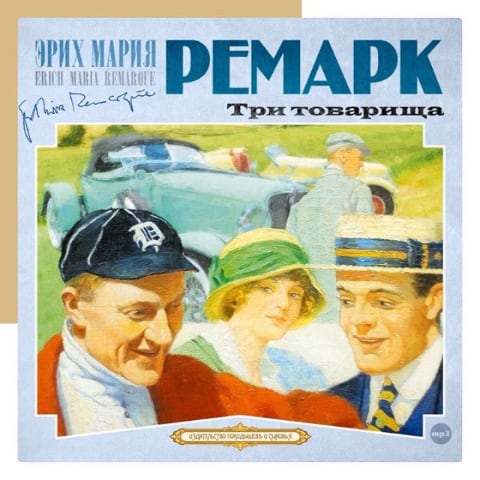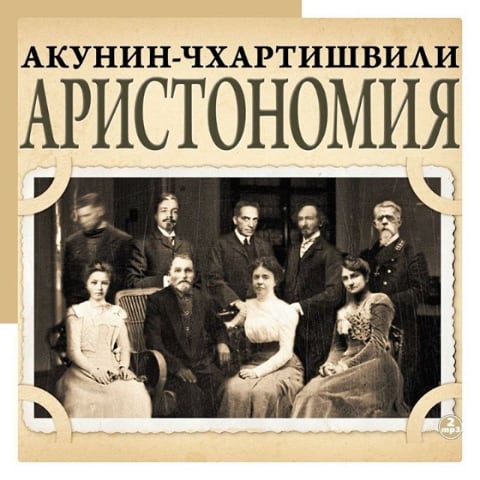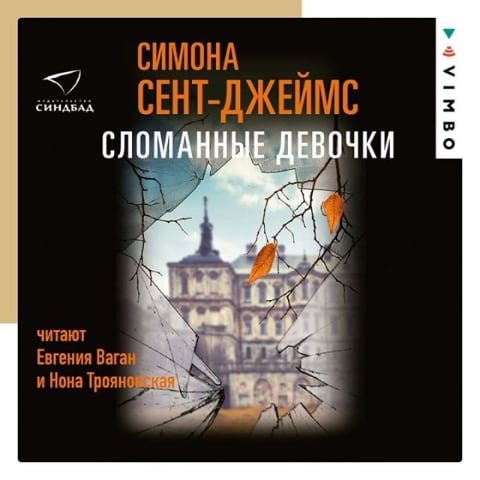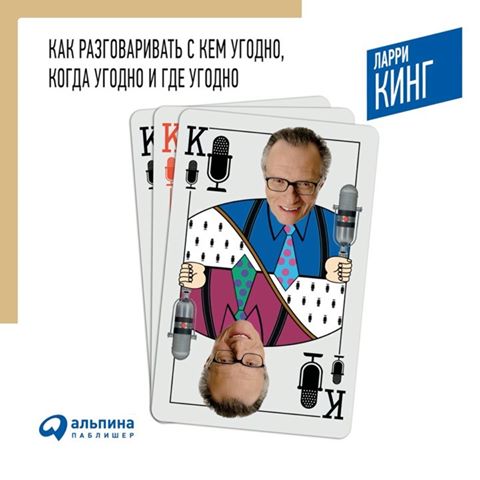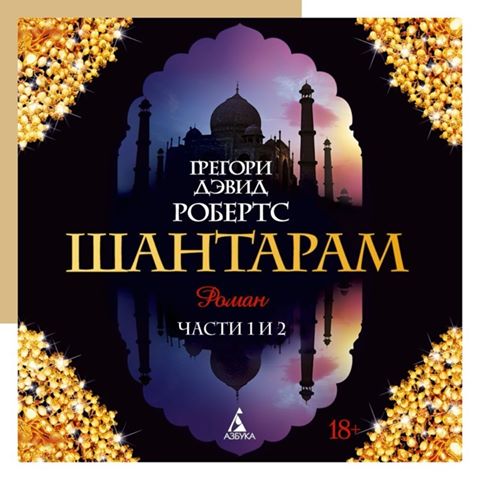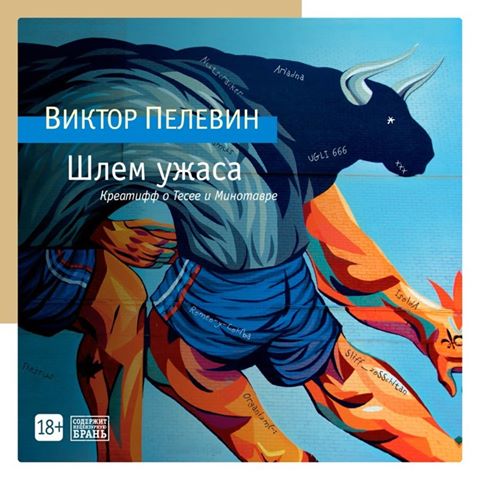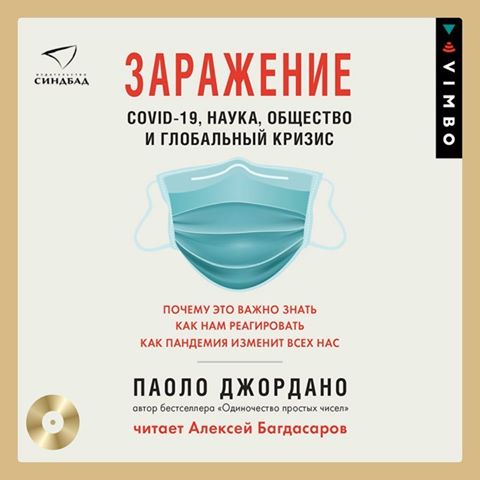Фрагмент книги «Полка. История русской поэзии»
от великаго крепкаго разума:
«Беспечална мати меня породила,
гребешком кудерцы розчёсывала,
драгими порты меня одеяла
и отшед под ручку посмотрила,
"хорошо ли мое чадо в драгих портах? —
а в драгих портах чаду и цены нет!"»
Духовные стихи сами по себе известны меньше, чем былины, но их прямое влияние на дальнейшую поэзию (от Некрасова до Михаила Кузмина и Елены Шварц) едва ли не больше. Эта традиция не умерла, а продолжалась, и очень интенсивно, в старообрядческой и сектантской среде.
Почти всё, что мы знаем из «стихов» (то есть нерифмованной тонической поэзии) XVI–XVII веков, связано или с религией, или с политикой, и притом анонимно. Однако есть исключение. До нас дошли черновики одного поэта, относящиеся уже к самому концу века (1696–1699 годы). Дворянин Пётр Квашнин-Самарин (1671–1749), впоследствии успешный чиновник, на обрывках хозяйственных бумаг записывал малороссийские песни, сообщённые кем-то из слуг, перемежая их собственными стихотворными опытами, например такими:
Свет, моя милая, дорогая,
не дала мне на себе наглядеться,
на хорошой лик прекрасной насмотреться.
Пойду ли я в чисто поле гуляти,
найду ли я мастера живописца
и велю списать образ ей на бумаге,
хорошей прекрасной лик на персоне…
Эта тоническая любовная лирика относится уже к началу Петровской эпохи. Несомненно, Квашнин был не единственным человеком, писавшим такие стихи, но сейчас его опыты одиноки, их не с чем сравнить. Единственное, что можно сказать: традиция нерифмованной тонической песенной лирики держалась довольно долго. Одна из прекраснейших старинных русских песен — «Уж как пал туман на море сине…», кажется, имеет автора, капитана Петра Львова (ок. 1690–1736) и точную дату написания (1722, во время Персидского похода). Она ещё целиком в старой (или фольклорной) традиции:
Уж как пал туман на сине море,
А злодейка-тоска в ретиво сердце,
Не сходить туману с синя моря,
Уж не выдти кручине из сердца вон…